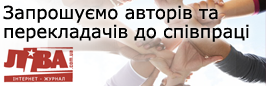От редакции: год российских протестов актуализировал тему разговора о месте художника в политической практике нашей эпохи. LIVA.com.ua представляет вашему вниманию интервью с Романом Осьминкиным – поэтом, политическим активистом и вокалистом группы Техно-Поэзия. Дмитрий Райдер поговорил с ним о проблемах автономии искусства, о судьбе искусства после революции и о природе социального феномена «хипстеров».
– Как ты определяешь для себя автономию искусства?
– Как мне кажется, здесь необходимо сразу отграничить два разных подхода к понятию автономии искусства. С одной стороны – это автономия самого эстетического суждения, генезис которой восходит к третьей критике Канта, где тот определяет эстетическое отношение как незаинтересованное, а красоту – как «целесообразность без цели». Хотя уже Гегель сопоставил художественную деятельность с характером производства в условиях капитализма и выявил значение труда для понимания сущности эстетического принципа
Но я даже не буду спорить с этим первым подходом, потому что он априорен сегодня для любого я считаю творческого работника. Иначе, зачем вообще творить— когда можно заниматься куда как более полезной для общества деятельностью? Рансьер сегодня называет это «самостоятельностью формы чувственного опыта». Этот опыт не сводим ни к научному, ни к политическому, – он просто один из способов познания действительности, без которого это познание будет неполным. Так я считаю. И раз уж я как бы назвался художником и поэтом, значит, я, прежде всего, предлагаю разделить со мной чувственный опыт в тех формах, которые я произвожу. Но на этом всякая автономия подобного рода и заканчивается.
Со «второй автономностью» искусства сложнее. Если для Платона разделение между искусством и политикой вообще не играло роли, так как искусство, а вернее даже искусства, разделялись только по способу делания – были подлинные искусства, то есть знания, подражающие определенным моделям и были лишь личины, подражающие видимостям (по Платону вредные, производителей которых нужно было изгнать из идеального государства).
Эти подражания дифференцировались по своему предназначению – ритуальному, воспитательному и т.д. – и были вписаны в разделение занятий в полисе. Способ бытия образов касался напрямую этоса – способа быть индивидов и коллективов, и поэтому искусство не могло автономизироваться как таковое. Но уже с эпохи Возрождения, в результате секуляризации и разделения труда, искусство отделяется от способа быть, обретая свое собственное эстетическое поле производства. И вплоть до модерна искусство проходит череду анти-изобразительных революций – в какой-то степени имманентных, то есть исходящих из своих внутренних законов, не выводимых напрямую из социальных сдвигов в обществе, достигая пика автономии в авангарде, когда оно становится самозаконодательным.
Наряду с революционизацией медиа искусства это приводит к самому большому разрыву, который чётче всего уловил Беньямин в «Произведении искусства в эпоху его технической воспроизводимости»: «…в тот момент, когда мерило подлинности перестает работать в процессе создания произведений искусства, преображается вся социальная функция искусства. Место ритуального основания занимает другая практическая деятельность: политическая. В восприятии произведений искусства возможны различные акценты, среди которых выделяются два полюса. Один из этих акцентов, среди которых выделяются два полюса. Один из этих акцентов приходится на Произведение искусства, другой – на его экспозиционную ценность». И тут мы теряем почву под ногами, поскольку исторический авангард поляризуется на модернистское искусство, каким его видели идеологи Франкфуртской школы и на советское движение продуктивистов и конструктивистов.
Программное высказывание Адорно гласило: «После того как искусство осознали как социальный факт, социологическое определение места ощущает себя как бы выше искусства и распоряжается им». Поэтому это модернистское искусство бежит любого даже намека на инструментализацию – социальную, идеологическую, товарную. Но при этом оно оставляет себе автономную роль критического актора, который, минуя ловушки с одной стороны массовой культуриндустрии и, с другой, ангажированного разными тоталитарными идеологиями искусства, олицетворяет непримиримый синтез «несоединимых, неидентичных, трущихся друг друга моментов» и выражает антагонизмы общества.
Штука в том, что своем свободном формальном поиске, бегущем всякой фетишизации и пользы, такое искусство логически приходит в тупик антипроизведения и антимедиа (последняя его стадия – концептуализм, где наглядность искусства практически полностью упраздняется когнитивными процедурами) и успешно обезвреживается капитализмом на выделенной территории «автономной институции» современного искусства – со своей индустрией арт-рынка, биеннале, кураторов, критиков и т.д.
Поэтому, как мне кажется, сегодня куда перспективнее другая ветка исторического авангарда – продуктивистско-конструктивистская. Это совсем другое понятие автономии искусства, как передового отряда труда, изобретающего чувственные формы и материальные рамки грядущей жизни. Но если продуктивисты и конструктивисты 20-х производили вещи, которые должны были в ближайшем будущем принести пользу всем без исключения и раствориться в быте людей (обратное возвращение искусства в этос), то начиная с Ситуационистов эта ветка авангарда производит не вещи-объекты, так или иначе все равно предполагающие репрезентацию (а значит пассивное созерцание, сакрализацию и последующую фетишизацию), а ситуации – как организованные, пусть и изолированные, моменты разотчуждённой жизни.
То есть, на место «ложного снятия» антагонизмов капиталистического общества приходит производство нового типа отношений между людьми. В этом и есть настоящая автономия – искусство про-живается. Такое искусство разомкнуто в различные социо-культурные поля, а его политическая, познавательная и воспитательная функции неразрывно слиты с эстетической. Сегодня, и у этой ветви авангарда конечно много проблем. Институции современного искусства уже научились почти безболезненно включать в себя любые перформансы и акции. Импульс жизнестроения апроприируется дизайном и креативными индустриями. Но надежда на вторую автономию все-таки еще жива. Прежде всего, она видится мне в активистских движениях последнего времени, начиная с конструктивных интервенционистов (группа Yes Man, движение Adbusters, московское движение Partizaning), и заканчивая разными формами движения Occupy во многих странах.
– Вы с Антоном Командировым сделали отличный музыкальный проект – Техно-Поэзия. Тексты, которые ты пишешь для песен, чем-то отличаются от твоих просто-стихов? В чем их задача и социальный заказ?
– Проект, конечно, сугубо маргинальный. Вернее, он являет собой такую матрицу маргинальной идентичности – взаимопересечение актуальной поэзии, неформатной музыки, политического арт-активизма и просто неотчуждаемых телесных жестов. Например, такой поэт-органик, чудом уцелевший могильщик (буквально работал на кладбище в Ораниебауме) из девяностых, Стас Барецкий, на бессознательном уровне уловил суть высказываний Троцкого в брошюре «Бытописательство и новая литература»: « <…> уже не пою о политике. Политика никому неинтересна, так как о ней поют все, даже Джигурда. А мне так не хочется быть похожим на Никиту Джигурду. Мои песни о нашем насущном, о бытовых проблемах! Мне небезразличны заботы моего народа!».
Троцкий, напомню, писал: «Некоторые литераторские кружки пытались убедить нас в том, что революционная литература должна не «отражать», а «преображать», и что поэтому бытописательству нет места в революционном художественном творчестве. Такой подход самым очевиднейшим образом обнаруживает «детскую болезнь» левизны. Марксизма тут нет ни на грош. Как можно преображать, не отражая? Как можно воздействовать на быт, не познавая его во всей его конкретности?».
И далее: «Нет, не мудрите, господа: нам до зарезу необходимо отражение жизни и быта трудящихся, начиная с простых рабочих корреспонденций и кончая художественными обобщениями».
О чем я? В один прекрасный момент осознаешь, что «преображать, не отражая», не получится – хоть ты тресни. И тогда такая свобода наваливается. Именно наваливается. Потому что ведь свобода, в ее гегельянском понимании – это всегда свобода не от, а для. Эта свобода позволяет собрать разнонаправленные аффекты в кулак (помнишь «кинокулак» Эйзенштейна, который он противопоставлял «киноглазу» Вертова). Что могут «обветшалые рифмы» сами по себе в эпоху гиперанестезии медиа-машин? Растереть и забыть. Что могут формальные музыкальные экспириенсы? Заинтересовать 1,5 ценителя, уловившего прогрессивный «революционный» посыл в ломаном риддиме? Что может кривляние, выдаваемое за contemporary dance, если оно безрефлексивно и абстрактно? Заворожить взгляд совершенством (уродливостью) телесности.
Но все вместе, множественно и гетерогенно, все эти акты свободного творчества наполняют нашу иллюзию таким разрядом чувственности, от которого не отвернешься. Вернее, это ставит перед выбором – отвернуться или разделить это чувственное . Успехом здесь будет то, – насколько чувственный опыт обобществим и универсализируем – а не неповторим и виртуозен.
Отсюда главным методом в проекте Техно-Поэзия стал метод переприсвоения жанров в режиме «так может каждый». Берется устоявшийся жанр массовой культуры и соответствующий ему культурный код – и перепрочитывается по-дургому, с помощью ангажированного инструментария левого поэта, антиавторитарного активиста, экспериментирующего музыканта. Таким образом, происходит де-кодирование – то есть, подрыв устоявшегося культурного кода изнутри. И наружу выходят вытесненные, скрытые (или намеренно утаиваемые) до этого момента смыслы. При этом средства деконструкции – языковые, формальные, игровые – не выходят за рамки жанра, а лишь по-новому компонуются.
И тут, конечно, никуда без контекста. Он очень важен в нашем творчестве. Строго говоря, мы ре-контекстуализируем как авторство, так и сложившееся публичное поле. Украсть чужой сэмпл или мелодию? Не проблема. Будучи реконтекстуализированными, они обретают заново свой критический потенциал – практика их восприятия де-автоматизируется и из этого зазора рождается чаемый Брехтом «критический катарсис». Нам, конечно, очень далеко до такого рода «критического катарсиса» в каждом случае наших экспериментов. Но дорогу осилит идущий.
– А у тебя есть какие то представления о судьбе искусства после революции, в ином, не капиталистическом обществе? Нет ли опасения, что искусство превратится в изображение борьбы «лучшего с хорошим»?
– Это очень интересный вопрос, потому что он сталкивает друг с другом художественную революцию с революцией политической. Капитализм не зря день изо дня ждет конца света. Но любой конец света для одних – начало нового для других. Искусство как изображение и репрезентация доживает последние дни. Искусство позднего капитализма деградирует в аффирмации – это фабрика грез, которые потом стильно упаковываются и адаптируются культурной и креативной индустрией прямиком на продажу по модным шоу-румам, галереям, интерьер-салонам и т.д. Отсюда лихорадочная повсеместная артизация наших повседневных отправлений, вползание в наши эмотивные структуры, попытка задействовать все наши инстинкты и вменить нам новые потребности, о которых мы может быть даже не догадывались.
И мы
можем с уверенностью предположить, что такое искусство после социалистической
революции перестанет существовать. А какое искусство останется – и останется ли
вообще? Быть может, оно будет преодолено вместе с разделением труда и станет
обычной производственной практикой, функцией организации жизни?
Но есть две такие важные функции в некоммерческом современном искусстве,
которые оно взяло на себя, завоевав институциональную автономию, и которые не
могут исчезнуть вот так вот сразу – это функция критики (разрушения наличного
порядка) и функция утопиестроения. Исторический авангард совершил антимиметическую
революцию, но он не брал на себя критическую функцию в обществе. А горизонт
утопии авангард поставил прямо перед собой как вполне осуществимую близкую цель
– коммунизм. Сегодня же мы, будучи равноудалены и от коммунизма и от революции,
можем только моделировать формы нового, освобожденного от рыночной экономики,
общества. Причем, моделировать не просто предаваясь неким фантазматическим
фигурам светлого будущего, а прямо на себе, через свои тела и коллективы,
производя альтернативные формы жизни и социальной практики. Отвоевывая пространство
и время у рыночных отношений, эти депрофессионализированные коллективы делают
зримее возможные формы бытования искусства после краха капитализма.
Но вот вопрос – а что, если революция произойдет, но будет не социалистической? Хотя это уже другая история…
– Вопрос о «Песне про хипстеров»? – насколько велика доля (само)иронии по отношению к хипстерам?
– Все песни Техно-Поэзии включают в себя метод «остранения» и не пишутся от первого лица, если таковое сегодня вообще существует. На смену субъекту из плоти и крови пришел сингулярный субъект, действующий ситуативно и множественно. «Хипстеры» написаны в декабре 2011 года, после массовой волны политизации молодых людей и девушек, выросших в аполитичные нулевые. Ирония в песне направлена не на них как таковых (нельзя отрицать, что и часть моей идентичности подпадает под разряд хипстера), а на саму эту хипстерскую политизацию. То есть, на сопутствующие ей элементы формы: луки, айфоны, твиттеры и т.п., которые делают ее с одной стороны такой модной и стильной, что закаленные активисты морщатся, а с другой конституируют саму эту политизацию, делают ее в корне отличной от устоявшихся политических форм митингов и пикетов.
Например, именно хипстеры освоили такое ноу-хау как живой микрофон – когда все повторяют речь оратора ввиду отсутствия звукоусиления. Хипстеры отлично переняли американский опыт ассамблей на Оккупай Абай, где есть свой язык жестов и слово может взять каждый.
– А как ты относишься к мыслям о том, что хипстеры – это такой сегмент нового рабочего класса?
– Хипстеры – это побочный эффект пост-индустриального общества, когда экономика не переваривает такое количество образованной молодежи и та подается в богему. Богема сегодня – это не марксовы лаццарони и шулеры, а просто «лишние люди» – заговорщики, которые не хотят или не могут работать просто по найму, а хотят творческого разотчужденного труда. Хипстеры могут стать новым авангардом пролетариата – арт-пролетариатом. Но для этого им надо избежать субкультурных силков и осознать себя как социальную группу
– И стать союзниками пролетариата индустриального?
– Найти общий язык будет непросто. Но у хипстера и молодого рабочего куда больше общего, чем думает (пытаясь играть на этом ложном противопоставлении) кремлевская верхушка.
Спрашивал Дмитрий Райдер
Читайте по теме:
Андрей Манчук. Интервью с Кириллом Медведевым
Илья Матвеев. Об одном популярном слове
Андрей Манчук. Интервью с Изабель Магкоевой
Артем Кирпиченок. «Креативный класс» или путь к массам?
Артем Темиров. «Царь Путин» в Мариинском театре
Андрей Манчук. Интервью с Марией Любичевой
Илья Власюк. Интервью с Псоем Короленко
Андрей Манчук. Интервью с Сергеем Летовым
Алексей Блюминов. Интервью с Черным Лукичем
Андрей Манчук, Дмитрий Колесник. Интервью с группой «Bandista»
Кейт Кампайна. Интервью с Томом Морелло
Дмитрий Райдер. Интервью с Лехой Никоновым
Андрей Манчук. Интервью с Алексеем Цветковым
Дмитрий Райдер, Марко Габбас. Интервью с группой «Talco»
Ілля Власюк. Революційні пісні у Львові
-
Історія
Африка и немцы - история колонизации Намибии
Илья Деревянко история колонизации Намибии>> -
Економіка
Уолл-стрит рассчитывает на прибыли от войны
Илай Клифтон Спрос растет>> -
Антифашизм
Комплекс Бандеры. Фашисты: история, функции, сети
Junge Welt Против ревизионизма>> -
Історія
«Красная скала». Камни истории и флаги войны
Андрій Манчук Создатели конфликта>>













 RSS
RSS