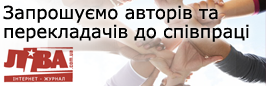Итальянцы и правых и левых взглядов нападали на фильм «Перед революцией» в первую очередь из идеологических соображений. Столкновение поколений. Мы относимся к поколению, которое родилось слишком поздно, чтобы участвовать в Сопротивлении, и слишком рано, чтобы разделять идеологию битников или им подобных. Мы открыли для себя политику, когда общественная жизнь пошла на спад. Это было время пустоты, поэтому мой фильм двойствен и прямо об этом заявляет. Он даже дважды двойствен – и в политическом плане, и в плане эстетики, кинематографического языка.
Уверен, что режиссеры, особенно молодые, формирующиеся, должны отдавать себе отчет, кто они такие, не только перед лицом мира, общества или истории, но также и перед лицом кино. Надо неустанно спрашивать себя, в чем суть кино, хотя на этот вопрос и нельзя дать однозначный ответ. Замечательно, когда, смотря фильм, через него открываешь «все кино».
В картине «Перед революцией» я хотел показать героя побежденного, бессильного; ему кажется, будто он что-то собой представляет, но на самом деле он ничто. В каком-то смысле Фабрицио – это я, точно так же, как Джина – это я, Пак — это я, Чезаре – это я. Я искренне привязан к этим героям: мне это бросилось в глаза, когда я пересматривал фильм спустя два года после съемок. Впрочем, режиссеры любят всех своих персонажей. Если бы мне пришлось снимать фильмы с действительно отрицательными героями, не знаю, как бы я к этому отнесся. Фабрицио символизирует невозможность буржуа быть марксистом. В нем воплотилось то, чего я боялся, снимая фильм, – моя собственная неспособность быть буржуазным марксистом.
Это проблема, которую я до сих пор не разрешил: по-моему, единственный способ стать марксистом – это вобрать в себя динамизм, необычайную жизненную энергию пролетариата, народа – единственной подлинно революционной силы в мире. Я пристраиваюсь где-то в хвосте этого движения и позволяю себя тянуть, не давая вытолкнуть вперед. А что касается фильма, то должен заметить: я с самого начала хотел выражаться двусмысленно. Очень важно отчетливо осознавать свою двойственность и пытаться ее преодолеть. Я двойствен, потому что я буржуа, как Фабрицио из фильма, и я снимаю фильмы, чтобы избавиться от опасностей, страхов, боязни проявить слабость или струсить. Я родом из буржуазии, а она страшно коварна: все заранее предвидела и теперь принимает с распростертыми объятиями и реализм и коммунизм. Очевидно, что этот либерализм – маска, за которой прячется ее лицемерие.
Кстати о реализме: мне не нравится, что итальянское кино не реалистическое, а натуралистическое, и мы упорно называем «реализмом» карикатуру на него, а это весьма и весьма сомнительно. Кино Годара, например, реалистично. А единственный великий реалист в Италии – Росселлини.
Работая над фильмом «Перед революцией», я проявил мужество и в то же время испытал удовольствие: проявил мужество, потому что этот фильм – что-то вроде заклинания, я пытался с его помощью сжечь мосты, соединявшие меня с детством и отрочеством; испытал удовольствие – потому что сумел преодолеть горечь, вызванную этим добровольным разрывом. Мне было двадцать три года, и я не знал «сладости жизни». Отсюда фраза Талейрана в эпиграфе. Поначалу я хотел поставить ее в конце фильма: ее смысл приобрел бы особую силу. Пожалуй, даже слишком большую, поэтому я и предпочел предварить ею фильм, чтобы подготовить к восприятию его красок, его настроения (Бертолуччи предваряет фильм сокращенным переводом высказывания Талейрана: «тот, кто не жил в годы перед революцией, не может понять сладость жизни». В оригинале оно звучит так: «тот, кто не жил в восемнадцатом веке перед Революцией, не может понять сладость жизни и представить себе, что значит жить счастливо»).
Меня всегда поражал тот факт, что в любимых фильмах больше вспоминается освещение, нежели содержание, рассказанная история. Так, есть свое освещение в «Путешествии в Италию», совсем непривычное для итальянского юга, не такое, как, например, в «Сальваторе Джулиано», а иное, выдуманное. Есть свое освещение в «На последнем дыхании». Я думаю, оно останется для нашего поколения самым характерным освещением шестидесятых годов. Так вот, вероятно, есть свое освещение и в ленте «Перед революцией».
Мой фильм живет в атмосфере Стендаля, потому что его Парма – это воображаемый город. Его описания совершенно не соответствуют реальности, в своих путевых записках он пишет просто: «Парма – город достаточно плоский» – и сразу меняет тему. Думаю, что место действия своего знаменитого романа «Пармская обитель» он выбрал исключительно из любви к Корреджо. К тому же, как всем известно, в Парме никогда не было картезианского монастыря.
В моем фильме четкая роль отведена Верди, который олицетворял в конце XIX века революционный дух, а в наши дни – дух буржуазный. «Макбет» на большой сцене Оперного театра – в моем фильме это храм буржуазии, грандиозный и достойный осмеяния.
В кино часто пытаются создавать метафоры, но в этом нет смысла, потому что метафоры рождаются сами собой. Мне очень не нравятся нарочитые метафоры, вроде большой рыбы в последних кадрах «Сладкой жизни». Не нужно ничего специально подстраивать, метафоры появляются, как только начинает монтироваться один план за другим. Это очень странно, потому что кино по своей сути не метафорично: изображения четки и однозначны, а вот слова, напротив, метафоричны. Если слово «дерево» встречается в стихотворении, читатель может представлять себе все деревья на свете, это слово – символ. Когда же дерево появляется в кадре, это конкретное дерево, оно не может быть символом других деревьев. Но странность кино в том, что абсолютный характер изображения уничтожается, как только за ним следует другое изображение, – и тогда рождается метафора.
До фильма «Перед революцией» я думал, что кино и поэзия – это одно и то же. Потом мое мнение изменилось, но я по-прежнему считаю, что кино ближе к поэзии, чем театр или роман. Не из-за иллюзии общности языка, но просто потому, что, снимая кино, можно обладать огромной свободой, такой же, как у поэта. А романист, по-моему, гораздо менее свободен.
Я всем обязан моему отцу. Это он познакомил меня с поэзией. Он не учил меня теориям или догмам, но развил во мне восприимчивость к всеобщей поэзии жизни. Я начал писать стихи в шесть лет, подражая ему, а перестал, чтобы больше не подражать ему, потому что было бы странно подражать ему всю жизнь. Мой отец был также кинокритиком. Мы жили в деревне близ Пармы, и два или три раза в неделю он возил меня в город смотреть фильмы. Так я познакомился с Джоном Фордом и другими великими авторами. Он приобщил меня как к кино, так и к поэзии.
Режиссеры, которых я больше всего люблю, – это Пазолини и Годар. Я обожаю их обоих, это два великих ума и два великих поэта. И именно поэтому я хочу снимать фильмы против Пазолини и против Годара, ибо убежден, что необходимо воевать с теми, кого любишь больше всего, если хочешь шагнуть вперед и дать что-то другим.
Бернардо Бертолуччи
1968 г.
Читайте по теме:
Бернардо Бертолуччи. Сжатый кулак в Венеции
Андрей Манчук. Сенокосы
Славой Жижек. Европейский стиль
Билл Муллен. Шик, блеск и Гэтсби
Жан-Поль Сартр. Письмо об «Ивановом детстве»
Эрнест Хемингуэй. Фашистский диктатор
Кен Лоуч. Воссоздать дух сорок пятого
Ирина Чеботникова. Другое лицо французской анимации
Андрей Манчук. Интервью со Светланой Басковой
Саймон Хаттенстоун. Семь рюмок с Аки Каурисмяки
Александр Гусев. Docudays UA. Дневник фестиваля
Лидия Михеева. Что смотреть восьмого марта
Алексей Цветков. «Жизнь Пи» – атеизм невыносим?
-
Історія
Африка и немцы - история колонизации Намибии
Илья Деревянко история колонизации Намибии>> -
Економіка
Уолл-стрит рассчитывает на прибыли от войны
Илай Клифтон Спрос растет>> -
Антифашизм
Комплекс Бандеры. Фашисты: история, функции, сети
Junge Welt Против ревизионизма>> -
Історія
«Красная скала». Камни истории и флаги войны
Андрій Манчук Создатели конфликта>>

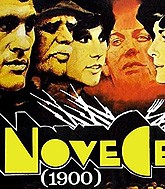











 RSS
RSS