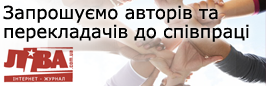Жан-Поль Сартр обращается к редактору газеты «Унита» Марио Аликата, рассказывая о цене победы над нацистской Германией – через критический анализ фильма Андрея Тарковского, снятого по повести Владимира Богомолова.
Мой дорогой Аликата!
Я неоднократно говорил об уважении, которое я испытываю к Вашим сотрудникам, занимающимся литературой, изобразительным искусством и кино. Я нахожу, что в них сочетаются строгость и свобода, которые обычно позволяют доходить до сути проблемы и в то же время улавливать всё то необходимое и конкретное, что несёт в себе художественное произведение. Тоже самое я могу сказать о газетах «Паэзе» и «Паэзе сера»: в них нет никакого леваческого схематизма.
Именно поэтому я хотел бы выразить Вам своё сожаление. Как случилось, что впервые на моей памяти можно обвинить в схематичности появившейся в «Унита» и других левых газетах статьи, посвящённые «Иванову детству» – одному из самых прекрасных фильмов, увиденных мною в последние годы? Жюри венецианского фестиваля присудило ему свою высшую награду – «Золотого льва», но она странным образом стала клеймом «западничества», а самого Тарковского превратила в глазах итальянских левых в подозрительного буржуа.
Подобные суждения, высказываемые без реальных доказательств, отпугивают широкую публику от глубоко революционного фильма, выражающего настроения молодого поколения советских людей. Что касается меня, то я видел его в Москве – сначала на закрытом просмотре, потом в зрительском зале, среди молодёжи. Там я понял, чем является этот фильм для двадцатилетних наследников Революции, которые ни на минуту не ставят под сомнение и с гордостью вызываются её продолжать: в их оценки, уверяю вас, нет ничего, что можно было бы назвать реакцией «мелких буржуа».
Разумеется, любой критик волен отражать сомнения относительно произведения, представленного на его суд, но справедливо ли проявлять такое недоверие к фильму, который был и остаётся в СССР предметом горячих дискуссий? Справедливо ли критиковать его, не принимая во внимание эти споры и их глубокое значение, как если бы «Иваново детство» было всего лишь одним из образцов типичной советской кинопродукции?
Я достаточно хорошо знаю Вас, мой дорогой Аликата, и уверен, что вы не разделяете упрощённых взглядов ваших критиков. И поскольку я испытываю к ним искреннее уважение, прошу вас ознакомить их с этим письмом, которое, возможно, позволит возобновить дискуссию, пока ещё не слишком поздно.
Многие говорили о традиционности и в тоже время об экспрессионизме, об устаревшем символизме. Позвольте заметить, что эти формалистические критерии сами по себе устарели. Действительно, у Феллини, у Антониони мы сталкиваемся со скрытым символизмом. Однако эта скрытость делает его ещё более бросающимся в глаза. Не избежал этого и итальянский неореализм. Здесь следовало бы остановиться на символизме любого произведения, даже самого реалистического. Для этого у нас нет времени. Впрочем, Тарковского упрекают, скорее, в природе его символизма, якобы экспрессионистской и сюрреалистической.
Я не могу с этим согласиться. Прежде всего потому, что в этих упрёках слышны отголоски обвинений, выдвигаемых в Советском Союзе в адрес молодого режиссёра представителями умирающего академизма. Некоторым советским и лучшим из ваших критиков могло показаться, что он без разбору пользуется торопливо усвоенными приёмами, которые на западе уже вышли из моды. Ему ставят в упрёк сны Ивана: «Сны! Западные кинематографисты уже давным-давно отказались от них! Тарковский опоздал: это было в диковинку в период между первой и второй мировыми войнами!». Вот что пишут авторитетные перья!
Но Тарковскому 28 лет (он сам сказал мне об этом, а не 30, как утверждали некоторые газеты) и, уверяю Вас, он очень плохо знает западное кино. В силу обстоятельств он, прежде всего, носитель советской культуры. Его фильм невозможно трактовать, подходя к нему с «буржуазными» мерками. Кто он, Иван? Безумец, чудовище, маленький герой? В действительности он – самая невинная жертва войны, мальчишка, которого невозможно не любить, вскормленный насилием и впитавший его. Нацисты убили Ивана в тот момент, когда они убили его мать и уничтожили жителей деревни. Однако он продолжает жить. Но жить в прошлом, когда рядом с ним падали его близкие.
Мне приходилось встречать юных алжирцев, выросших посреди резни. Для них не было никакой разницы между явью и ночными кошмарами. Они были убиты, они хотели убивать и быть убитыми. Их героизм был порождён ненавистью и бегством от невыносимого ужаса. В бою они искали спасения от страха; ночью, во сне они становились безоружными и возвращались в детство. Но вместе со снами возвращались и жуткие воспоминания, от которых они пытались избавиться. Таков и Иван.
И мне кажется, что нужно отдать должное Тарковскому, так убедительно показавшему, что для этого ребёнка, тяготеющего к самоубийству, нет различия между днём и ночью. В любом случае он живёт не с нами. Его поступки и видения тесно переплетены. Посмотрите на его отношения со взрослыми. Он живёт среди бойцов. Офицеры, славные, смелые люди, но люди «нормальные», не пережившие трагического детства, занимаются им, любят его, хотят любой ценой вернуть его в «нормальное состояние», отправить в тыл, в школу.
На первый взгляд ребёнок мог бы, как в одной из повестей Шолохова, найти среди них человека, который заменил бы ему потерянного отца. Слишком поздно: ему не нужны даже родные, неизбывный ужас пережитой бойни обрекает его на одиночество. И офицеры, в конце концов, начинают относиться к ребёнку со смешанным чувством нежности, ужаса и болезненной подозрительности. Они видят в нём доведённое до совершенства чудовище, одновременно прекрасное и почти отталкивающее, самоутверждающееся лишь в смертоносных порывах (сцена с ножом). Это существо не в силах порвать нити, связывающие его с войной и смертью; ему отныне необходим этот зловещий окружающий мир; освобождающееся от страха в разгар битвы в тылу, оно будет изглодано тревогой.
Маленькая жертва знает, что ей нужно: породившая её война, кровь, мщение. Тем не менее два офицера любят мальчика; что же касается его чувств к ним, можно лишь сказать, что они не вызывают у него неприязни. Дорога любви закрыта для него навсегда. Его кошмары и видения не случайны. Речь идёт не о режиссёрских изысках и даже и не о попытке проникновения в детское подсознание: они абсолютно объективны, мы продолжаем видеть Ивана извне точно так же, как в реальных сценах.
Дело в том, что для этого ребёнка весь мир – галлюцинация, а сам он, чудовище и мученик, – галлюцинация для других, окружающих его в этом мире.
Именно поэтому уже первый эпизод вводит нас в реальный и одновременно фантастический мир, мир ребёнка и войны, начинающийся реальным бегом Ивана через лес и кончающийся вымышленной смертью матери (она действительно погибла, но при других обстоятельствах, и мы никогда не узнаем – каких, поскольку эта драма слишком глубоко похоронена и всплывёт лишь в преображённом виде, смягчающем её ужасную наготу). Безумие? Реальность? И то и другое: на войне все солдаты безумны, и этот чудовищный ребёнок – объективное доказательство их безумия, потому что он безумнее остальных. Речь, следовательно, идёт не об экспрессионизме или символизме, а о манере повествования, диктуемой самим сюжетом, которую молодой поэт Вознесенский назвал «социалистическим сюрреализмом».
Необходимо глубже вникнуть в авторский замысел, чтобы понять смысл самой темы: война убивает всех, кто принимает в неё участие, всех тех, кто остаётся в живых. А если копнуть ещё глубже, – на одном и том же витке история порождает и губит своих героев, неспособных жить без страданий в обществе, созданию которого они способствуют.
Многие из тех, кто с предубеждением отнеслись к «Иванову детству», в то же время превозносили «Человека, которого надо сжечь». Создателей этого фильма, кстати, очень неплохого, расхваливали за то, что они усложнили образ положительного героя. И в самом деле, они наградили его недостатками, – например, мифоманией. Одновременно они старались подчеркнуть преданность своего героя делу, которому он служит, и его эгоцентризм. Но со своё стороны я не нахожу в этом ничего по-настоящему нового. В конце концов, лучшие произведения социалистического реализма вопреки всему всегда представляли нам неоднозначных, сложных героев, воспевая их достоинства и выделяя некоторые их слабости. Однако проблема заключается не в дозировке доблестей и пороках героя, а в споре о самом героизме.
У этого ребёнка нет ни маленьких добродетелей, ни маленьких слабостей: он целиком и полностью таков, каким его сделала история. Затянутый против своей воли в круговорот войны, он создан для войны. И если он пугает солдат, среди которых находится, то только потому, что никогда не сможет жить в мире. Порождённое ужасом и страхом насилие, сосредоточенное в нём, поддерживает его, помогает жить и продолжает требовать всё новых и новых опасных заданий разведчика.
Но что будет с ним после войны? Если он выживет, переполняющая его раскалённая лава никогда не остынет. Нет ли здесь очень важной, в самом узком смысле этого термина, критики положительного героя? Нам показывают его таким, какой он есть, обнажают трагические и мрачные истоки его силы, дают увидеть, что это порождение войны, прекрасно приспособленное к военной обстановке, именно поэтому никогда не сможет адаптироваться в мирной жизни.
Таким образом, история сама делает людей: она их выбирает, садится верхом и заставляет умереть под своей тяжестью. Среди людей, согласных умереть ради мира и воюющих за него, этот безумный, воинственный ребёнок воюет ради войны. Именно ради этого и живёт он в полном одиночестве в окружении любящих его солдат. И всё же он – ребёнок. Его опустошённая душа хранит детскую нежность, которую он, однако, уже не чувствует и тем более не может выразить. А если нежность обволакивает его сны, можно быть уверенным, что эти сны неизбежно обратятся в кошмары. Самые простые моменты счастья начинают пугать: мы знаем, чем это кончится. А между тем эта подавленная, разбитая нежность живёт в каждом кадре – Тарковский окружает ею Ивана. Это окружающий мир, несмотря на войну, а иногда и благодаря ей (я вспоминаю дивное, распоротое сигнальными ракетами небо).
В действительности лиризм фильма, его распахнутое небо, спокойные воды, бескрайние леса – это и есть жизнь Ивана, любовь и корни, которые у него отняты, то, чем он был, и то, чем он ещё останется, но уже никогда не сможет об этом вспомнить; Всё это видят окружающие его люди, но сам он больше не видит. Я не знаю более волнующего эпизода, чем бесконечная, медленная, душераздирающая переправа через реку. Несмотря на тревогу и сомнения (стоит ли подвергать ребёнка такому риску?), сопровождающие его офицеры заворожены этой унылой и пугающей красотой. Но ребёнок, одержимый смертью, ничего не замечая, выпрыгивает на берег: он идёт к врагу. Лодки поворачивают назад, на рекой стоит тишина, пушки молчат. Один из военных говорит: «Эта тишина – война».
В ту же секунду тишина взрывается: крики, возгласы – вот он, мир. Обезумевшие от радости советские солдаты врываются в берлинскую рейхканцелярию, взбегают по лестницам. Один из офицеров – другой погиб? – подбирает в чулане несколько бумаг. Третий рейх славился своей бюрократией: на каждого повешенного имелся документ с фотографией и фамилией. На одном из них – снимок Ивана. Повешен в 12 лет. В ликовании целой нации, дорого заплатившей за право продолжать строительство социализма, чёрная дыра – среди многих других смерть ребёнка, смерть в ненависти и отчаянии. Ничто, даже грядущий коммунизм, не искупит её. Нам показывают здесь, без посредников, коллективную радость и эту личную трагедию. Нет даже матери, которая могла бы испытать смешанное чувство боли и гордости, потеря абсолютна.
Человеческое общество идёт к своей цели, выжившие достигнут её, однако этот маленький мертвец, крошечный зародыш, сметённый историей, останется как вопрос, на который нет ответа. Его гибель ничего не меняет, но заставляет нас увидеть окружающий мир в новом свете.
История трагична. Так говорили Гегель и Маркс. Мы же в последнее время почти не говорим об этом, рассуждая о прогрессе, и забывая о невозместимых потерях. «Иваново детство» напоминает нам об этом самым ненавязчивым образом. Умирает ребёнок. И это становится почти хеппи-эндом, поскольку он не мог бы выжить. Мне кажется, что в известном смысле автор, очень молодой человек, хотел рассказать о себе и своём поколении. Не потому, что они мертвы, эти гордые и суровые первопроходцы, а потому, что их детство было искалечено войной и её последствиями. Я хотел бы даже сравнить «Иваново детство» с фильмом «400 ударов», но лишь для того, чтобы подчеркнуть разницу между ними. Ребёнок, растерзанный своими родителями, – вот буржуазная трагикомедия. Тысячи живых детей, раздавленных войной – вот одна из советских трагедий.
Здесь, на Западе, мы сумели оценить стремительный мир Годара и медлительность Антониони. Но нам в новинку сочетание этих двух скоростей у постановщика, который не черпает вдохновения в произведениях ни того, ни другого автора. Режиссёр передаёт военное время в его невыносимой медлительности и в том же фильме перескакивает из эпохи в эпоху (я имею в виду, в частности, восхитительный контраст двух планов реки и Рейхстага), отказывается развивать сюжетные линии, чтобы вернуться к ним в другой момент или в минуту их смерти. Но не это противопоставление ритмов придаёт фильму его специфический характер с социальной точки зрения.
Моменты отчаяния, разрушающие личность, правда, не столько многочисленные, были знакомы и нам – в ту же эпоху. (Я вспоминаю о еврейском мальчике, ровеснике Ивана, который, узнав в 1945 году о гибели своих родителей в газовой камере, облил бензином свою постель, лёг в неё, поднёс спичку и заживо сгорел).
Но у нас нет заслуги или шанса участвовать в осуществлении грандиозного замысла. Мы часто сталкивались со злом. Однако нам никогда не приходилось встречаться с абсолютным злом в момент, когда оно вступает в борьбу с Добром. Это и потрясает в фильме: естественно, ни один советский человек не может считать себя ответственным за смерть Ивана; единственные виновники – нацисты. Проблема не в этом: каково бы ни было происхождение Зла, его бесчисленные булавочные уколы Добру обнажают трагическую правду о человеке и об историческом прогрессе. И где об этом можно лучше сказать, чем в СССР, единственной стране, где слово «прогресс» имеет смысл? Разумеется, это не должно порождать какие-либо пессимистические заключения, равно как и легкомысленный оптимизм, но лишь стремление бороться, никогда не забывая о цене, которую приходится платить.
Я знаю, что Вам лучше, чем мне, мой дорогой Аликата, знакомо горе, пот, а часто и кровь, которыми оборачиваются малейшие изменения в обществе. Я уверен, что вы, как и я, оцените этот фильм о невосполнимых потерях Истории. И моё уважение к критикам «Унита» убеждает меня обратиться к Вам с просьбой показать им это письмо. Я буду счастлив, если мои заметки вызовут у них желание ответить мне и возобновить дискуссию об Иване. Настоящей наградой Тарковскому должен стать не «Золотой лев», а интерес, возможно полемический, к его фильму у тех, кто борется за освобождение человека и против войны.
С самой искренней дружбой
Жан-Поль Сартр
9 октября 1963 г.
Читайте по теме:
Бернардо Бертолуччи. Сжатый кулак в Венеции
Кен Лоуч. Воссоздать дух сорок пятого
Ирина Чеботникова. Другое лицо французской анимации
Александр Гусев. Docudays UA. Дневник фестиваля
Лидия Михеева. Что смотреть восьмого марта
Георгій Ерман. Кіно, що кличе змінити світ
Майкл Мур. Я не поддерживаю наших солдат
Андрей Манчук. Интервью со Светланой Басковой
-
Історія
Африка и немцы - история колонизации Намибии
Илья Деревянко история колонизации Намибии>> -
Економіка
Уолл-стрит рассчитывает на прибыли от войны
Илай Клифтон Спрос растет>> -
Антифашизм
Комплекс Бандеры. Фашисты: история, функции, сети
Junge Welt Против ревизионизма>> -
Історія
«Красная скала». Камни истории и флаги войны
Андрій Манчук Создатели конфликта>>













 RSS
RSS