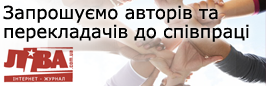Тема жизни, смерти, бессмертия.
В горниле новых представлений, которые порождались революцией на смену беспощадному сметанию старых концепций и верований, возникало и новое представление о победе над смертью, о преодолении смерти, о бессмертии.
Биологически мы смертны.
И бессмертны только в социальных деяниях наших, в том маленьком вкладе, который вносит наш личный пробег с эстафетой социального прогресса от ушедшего поколения к поколению наступающему.
Это сейчас почти книжная и прописная истина.
Но были же когда-то народы, впервые выработавшие формулу, что дважды два четыре. Много веков спустя век относительности ответил на такие невинные задачи – что и сколько угодно. И это было новым – решающим шагом к порогам нового, атомного века.
Так и мы, поколение, по пояс стоявшее в пред-Октябре, приходили из зарослей предоктябрьских концепций к этому новому ряду представлений, устремившихся на нас с приходом Октября.
Поле приложения подобной концепции сейчас бесконечно шире, чем та одна шестая часть мира, где это не только слова.
Посмотрите, с какой последовательностью звучит проповедь этого нового образа бессмертия с американского экрана, правда, лишь с того момента, когда дяде Сэму понадобились человеческие силы, чтобы управлять и водить самолеты и жертвовать собой в обстановке войны.
«A Guy named Joe», где мертвые, погибшие, разбившиеся авиаторы сидят за спинами новичков и запасом своего опыта, оплаченного гибелью, катастрофами и ценой жизни, ведут в поднебесье рать за ратью молодых летчиков.
Такова узловая ситуация.
Изобретательность американцев и их умение извлечь из ситуации всю гамму возможностей от лирики до балагана и от фарса до трагедии – разводит ситуации в нескончаемый ряд сцен.
Но проповедь темы заключена в уста «небесного генерала», распределяющего разбившихся летчиков обратно на самолеты новичков.
И мысль о том, что рукой каждого нового летчика управляют тысячи погибших до него, подымается здесь до пафоса.
Хотя ворчливо произносит эту речь своим характерным голосом Лайонел Барримор, а слушает его иронически сощуренный Спенсер Трэси в образе погибшего летчика Джо, получающего назначение обратно на землю незримо управлять действиями молодого летчика.
Но есть и фундаментальная разница. Мы видим бессмертие не в форме загробной кооперации старших и младших поколений. Мы видим бессмертие в цели, ради которой борются и умирают поколения.
И цель эта – та свобода человека, за которую в пылу войны, мы полагали, дерутся и наши союзники.
Когда дым битв рассеялся, мы увидели, что на мирном фоне, вне грохота орудий, одни и те же, казалось бы, слова обозначают вовсе разное.
Наш идеал революционной борьбы, революционной жизни во имя истинной свободы оказался совсем иным, чем то, чем размахивали союзники на своих знаменах.
И формула нашего понимания бессмертия еще и еще раз подчеркнуто определилась как бессмертие в борьбе за революционный идеал свободы.
Прописная книжная истина для многих, для нашего поколения – повторяю – это было становлением нового осознавания жизни и действительности.

А потому, повторяя в становлении произведения, как это часто бывает, не только отражение фактов, но и динамику процессов – этот величественный и великолепный путь к новой жизни, новым мыслям и идеям, – именно эта мысль – не как формула, но как живой и яркий образ – расцвела ведущей темой, родившейся из хаоса бесчисленного пересечения эпизодов и фактов, обрядов и обычаев, анекдотов и ситуаций, в которых бег жизни и смерти, как нигде, колоритно пересекают друг другу пути в Мексике;
то в трагических образах смерти, растаптывающей жизнь,
то в роскошных образах торжества жизни над смертью,
то в обреченном умирании биологически ограниченного,
то в необъятности социально вечного, порожденного грядущими чертогами будущего, вырастающего на жертвенной крови погибшего сегодня.
Игра жизни и смерти, соревнование их.
Культом смерти древних ацтеков и майя, среди недвижной вечности камней начинается фильм, чтобы закончиться презрительной «василадой», той особой формой мексиканской иронии, способной в сарказме своем казнить самый образ смерти, во имя неизбежно из него рождающихся гейзеров жизни.
Между ними и пеон, погибающий под копытами хасиендадо, и католический монах, в кощунстве самоотречения и аскезы попирающий пышный праздник тропической жизни, и бык, во славу мадонны истекающий кровью на арене, и раздираемая братоубийственной междоусобицей, истекающая кровью страна под ликующие инспирируемые Ватиканом крики: «Viva Ghristo Rey» там, где должно громогласно греметь: «Viva el Hombre Rey!»
Не слава Христу-королю, но слава королю-человеку.
И все это сбегается в финал, в финал, в ироническом кривом зеркале «Дня мертвых» казнящий призрак вечной смерти, которому поклоняются дикари пролога.
Уже не мраморные или гранитные черепа ацтеков и майя, уже не страшилища матери богов в ожерелье черепов, уже не жертвенник Чичен-Итцы, где камни высечены в виде мертвых голов.
– нет!
Картонная маска смерти здесь скачет румбой, сменившей похоронные ритмы, среди каруселей и балаганов, народных ярмарок на «аламедах» – скверах больших и малых городов, необъятных селений и миниатюрных деревень.
Кружатся карусели и колеса смеха.
Бешено пляшется румба.
Проносятся маски черепов.
Вот череп под соломенным сомбреро пеона, вот – под расшитым золотом сомбреро чарро,
вот над ним дамская шляпка со шпильками, вот цилиндр, вот треуголка, вот он поверх комбинезона механика, рабочего, шофера, кузнеца, горнорабочего.
Карнавал достиг апогея!
В апогее – слетают маски.
Вот полный кадр картонных черепов. Их сносит ураган взрыва смеха, и вместо белой стены черепов – бронзовый барельеф весело заливающихся смехом пеонов.
Другой кадр – также под взрывы смеха бледная личина картонной смерти уступает дружному веселью обнявшихся батрака, механика и шофера.
Бронзовые смеющиеся лица.
Сверкающие черные глаза и белые зубы.
Снова группа масок. И костюмы на них те, в которых они проходили сквозь картину.
В этом – тот, кто в картине перестреливался с хасиендадо, в этом – погибал при погоне, в этом – трудился среди полей или на бетонных заводах.
Но группу этих истинных и «положительных героев», утверждающих в картине начало жизни, пронизывают маски, наряженные в костюмы тех, кто нес сквозь картину насилие, порабощение жизни – смерть.
Это они одеты в костюм молодого хасиеидадо, топчущего зарытых в землю пеонов копытами коней, это они носят шелка и шляпу дочери помещика, это на них между уголками крахмального воротничка поверх звезды и ленты на фраке и цилиндром смеется все тот же масочный картонаж.
И общий силуэт намекает на президента в картине, принимающего парад пожарных и… полицейских.
Плюмаж и треуголка генерала высятся над другим картонным черепом с… усами. Он элегантно ведет картонную маску черепа, полускрытую за кружевным веером, в развевающейся мантилье, с кастаньетами в руке.
А вот, воздев руки к небу, кружится, повторяя жесты папского нунция и архиепископа мексиканского в день мадонны де Гуадалупе (тоже в картине) — чудак в полном епископском облачении, и золотая тиара горит в небе все над тем же матовым, неподвижным, картонным ликом смерти.
Не из воспоминаний о «Danse macabre» Сен-Санса или «Пляске смерти» Гольбейна родился этот карнавал.
Он растет прямо из сердцевины мексиканского фольклора, в этот день усеивающего столики торговцев на аламедах тучей черепов в касках, цилиндрах, шляпах, сомбреро, матадорских шапочках, епископских митрах. Из серии листов народнейшего из художников Мексики Хосе Гуадалупе Посады, известных под именем «калаверас».
Газеты и специальные листовки в «День смерти» полны рисунков на ту же тему.
Все считаются умершими.
Но если истинная смерть разрешает говорить об умершем лишь доброе, то карнавальная смерть требует на каждого мнимоумершего эпиграммы, злой, беспощадной, ядовитой, срывающей прижизненную маску.
И вот в урагане моего экранного карнавала вслед пеону и механику, шоферу и углекопу, – и танцующий хасиендадо, и девица, и гранд-дама, и генерал, и епископ веселым жестом срывают и свои картонные маски.
Что же под ними?
Там, где у первых – живые бронзовые лица, заливающиеся смехом,
у всех этих под сорванной маской – один и тот же лик.
Но не лицо, а желтый, костлявый… и подлинный череп.
У тех, живых, идущих вперед, несущих творчество и жизнь под картонажем смерти, – живые лица.
У этих – носителей смерти – картонный оскал прикрывает лишь более страшное – оскал подлинной смерти… подлинного черепа.
Обреченное историей на смерть несет на своих плечах ее эмблему.
1931 г.

Эйзенштейн об Эйзенштейне, режиссере кинофильма «Броненосец «Потемкин»
Мне двадцать восемь лет. Три года, вплоть до 1918 года, я был студентом. Вначале мне хотелось стать инженером и архитектором. Во время гражданской войны был сапером в Красной Армии. В это же время в свободные часы я начал заниматься искусством и театром, особенно я интересовался историей и теорией театра. В 1921 году в качестве театрального художника вступил в Пролеткульт. Театр Пролеткульта был занят поисками новой художественной формы, которая бы соответствовала идеологии новой России и нового государственного строя. Наша труппа стояла из молодых рабочих, стремившихся создать настоящее искусство, вносивших в него новый темперамент, новые взгляды на мир и искусство. Их художественные взгляды и требования полностью совпадали тогда с моими, хотя я, принадлежа к другому классу, пришел к тем же выводам, что и они, лишь чисто умозрительным путем.
Последующие годы были насыщены ожесточенной борьбой. В 1922 году я стал единственным режиссером Первого Московского рабочего театра и совершенно разошелся во взглядах с руководителями Пролеткульта. Пролеткультовцы были близки к точке зрения, которой придерживался Луначарский: они стояли за использование старых традиций, были склонны к компромиссам, когда поднимался вопрос о действенности дореволюционного искусства. Я же был одним из самых непримиримых поборников ЛЕФа – Левого фронта, требовавшего нового искусства, соответствующего новым социальным условиям. На нашей стороне тогда была вся молодежь – среди нас были новаторы Мейерхольд и Маяковский; против нас были традиционалист Станиславский и оппортунист Таиров.
И тем более мне было смешно, когда немецкая пресса назвала моих безыменных актеров, моих «просто людей», ни больше, ни меньше как артистами Московского Художественного театра – моего «смертельного врага».
В 1922-1923 годах я поставил в Рабочем театре три драмы; принципом их постановки был математический расчет элементов воздействия, которые я в то время называл «аттракционами». В первом спектакле – «Мудреце» – я попытался расчленить классическую театральную пьесу на отдельные воздействующие «аттракционы». Местом действия был цирк. Во втором – «Москва, слышишь?» – я в большей степени использовал различные технические средства и пытался математически рассчитать успех новых театральных эффектов. Третий спектакль – «Противогазы» – был поставлен на одном газовом заводе в рабочее время. Машины работали, и «актеры» работали; поначалу это представлялось успехом абсолютно реального, конкретного искусства.
Такое понимание театра было прямым путем в кино, так как только неумолимая предметность может быть сферой кино. Мой первый фильм появился в 1924 году; он был создан совместно с работниками Пролеткульта и назывался «Стачка». В фильме не было сюжета в общепринятом смысле, там было изображение хода стачки, был «монтаж аттракционов». Моим художественным принципом было и остается не интуитивное творчество, а рациональное, конструктивное построение воздействующих элементов; воздействие должно быть проанализировано и рассчитано заранее, это самое важное. Будут ли отдельные элементы воздействия заключаться в самом сюжете в общепринятом смысле этого слова, или они будут нанизываться на «сюжетный каркас», как в моем «Броненосце» я не вижу в этом существенной разницы. Я сам не сентиментален, не кровожаден, не особенно лиричен, в чем меня упрекают в Германии. Но все это мне, конечно, хорошо известно, и я знаю, что нужно лишь достаточно искусно использовать все эти элементы с тем, чтобы возбудить необходимую реакцию у зрителя и добиться огромнейшего напряжения. Я уверен, что это чисто математическая задача и что «откровению творческого гения» здесь не место. Здесь требуется не больше живости ума, чем при проектировании самого утилитарного железобетонного сооружения.
Что же касается моей точки зрения на кино вообще, то я должен признаться, что требую идейной направленности и определенной тенденции. На мой взгляд, не представляя ясно – «зачем», нельзя начинать работу над фильмом. Нельзя ничего создать, не зная, какими конкретными чувствами и страстями хочешь «спекулировать» – я прошу прощения за подобное выражение, оно «некрасиво», но профессионально и предельно точно. Мы подстегиваем страсти зрителя, но мы также должны иметь для них и клапан, громоотвод, этот громоотвод – «тенденция».
Отказ от направленности, рассеивание энергии я считаю величайшим преступлением нашей эпохи. Кроме того, направленность, мне кажется, таит в себе большие художественные возможности, хотя она может быть и не всегда такой острой, осознанно политической, как в «Броненосце». Но если она полностью отсутствует, если фильм рассматривают как простое времяпрепровождение, как средство убаюкать и усыпить, то такое отсутствие направленности кажется мне тенденцией, которая ведет к безмятежности и довольству существующим. Кино становится подобным церковной общине, которая должна воспитывать хороших, уравновешенных, нетребовательных бюргеров. Не является ли все это философией американского «Happy ending»?
Меня упрекают в том, что «Броненосец» слишком патетичен, – кстати, в том виде, в котором он был показан немецкому зрителю, сила его политической направленности была очень ослаблена. Но разве мы не люди, разве у нас нет темперамента, разве у нас нет страстей, разве у нас нет задач и целей? Успех фильма в Берлин и во всей послевоенной Европе, погруженной в сумерки неустойчивого status quo, должен был прозвучать призывом к существованию, достойному человечества. Разве такой пафос не оправдан? Надо поднять голову и учиться чувствовать себя людьми, нужно быть человеком стать человеком – ни большего и ни меньшего требует направленность этого фильма.
«Броненосец «Потемкин» был создан к двадцатой годовщине революции 1905 года, он должен был быть закончен в декабре 1925 года, у нас было всего три месяца времени. Я полагаю, что и в Германии такой срок считается рекордным. Для монтажа мне оставалось две с половиной недели, а всего было необходимо смонтировать 15 000 метров.
Если даже все пути ведут в Рим и если даже все истинные произведения искусства, в конце концов, стоят всегда на высоком интеллектуальном уровне, то я все же должен подчеркнуть, что Станиславский и Художественный театр в данном случае ничего бы не могли создать, как, впрочем, и Пролеткульт. В этом театре я уже давно не работаю. Я, так сказать, органически перешел в кино, тогда как пролеткультовцы остались в театре. По моему мнению, художник должен выбрать между театром и кино, «заниматься» и тем и другим одновременно невозможно, если хочешь создать что-нибудь настоящее.
В «Броненосце «Потемкин» актеров нет, в этом фильме есть только подлинные люди, и задачей его постановщика было – найти подходящих людей. Решали не творчески выявленные способности, а физический облик. Возможность работать так имеется, конечно, лишь в России, где все является государственным делом. Лозунг «Все за одного – один за всех!» стоял не только на экране. Если мы снимаем морской фильм, к нашим услугам весь флот, если мы снимаем батальный – с нами всюду Красная Армия. Если речь идет о сельскохозяйственном фильме – помогают соответствующие учреждения. Дело в том, что мы снимаем не для себя, не для других, не для того и не для этого, а для всех нас.
Я убежден в огромном успехе кинематографического сотрудничества Германии и России. Соединение немецких технических возможностей с русским творческим горением должно дать нечто необычайное. Более чем сомнительно предположение, что я переселюсь в Германию. Я не смогу покинуть родную землю, которая дала мне силу творить, дала мне темы для моих фильмов. Мне кажется, что меня лучше поймут, если я напомню миф об Антее, чем если я дам марксистское объяснение связи между художественным творчеством и социально-экономическим базисом. Кроме того, существующая в немецкой индустрии установка на шаблон и делячество делает для меня работу в Германии совершенно немыслимой. Безусловно, в Германии были фильмы, которые нужно было оценить высоко. Теперь же я предвижу, что постановки «Фауста» и «Метрополиса» исчерпают себя в забавных пустячках, находящихся где-то между порнографией и сентиментальностью. В Германии нет отваги. Мы, русские, либо ломаем себе шею, либо одерживаем победу. И чаще мы побеждаем.
Я остаюсь на родине. Сейчас я снимаю фильм, тема которого – развитие сельского хозяйства в деревне, жестокая борьба за новое сельское хозяйство.
Сергей Эйзенштейн
1926 г.
Читайте по теме:
Олександр Довженко. Земля
Артем Кирпиченок. Вавилон-Берлин. Сериалы борются с коммунизмом
Сергей Киричук. «Молодой Карл Маркс». Премьера
Андрей Манчук. «Drinking rum and Coca-Cola»
Cлавой Жижек. Политика Бэтмена
Саймон Хаттенстоун. Семь рюмок с Аки Каурисмяки
Андрей Манчук. Апокалипсис сегодня
-
Історія
Африка и немцы - история колонизации Намибии
Илья Деревянко история колонизации Намибии>> -
Економіка
Уолл-стрит рассчитывает на прибыли от войны
Илай Клифтон Спрос растет>> -
Антифашизм
Комплекс Бандеры. Фашисты: история, функции, сети
Junge Welt Против ревизионизма>> -
Історія
«Красная скала». Камни истории и флаги войны
Андрій Манчук Создатели конфликта>>













 RSS
RSS